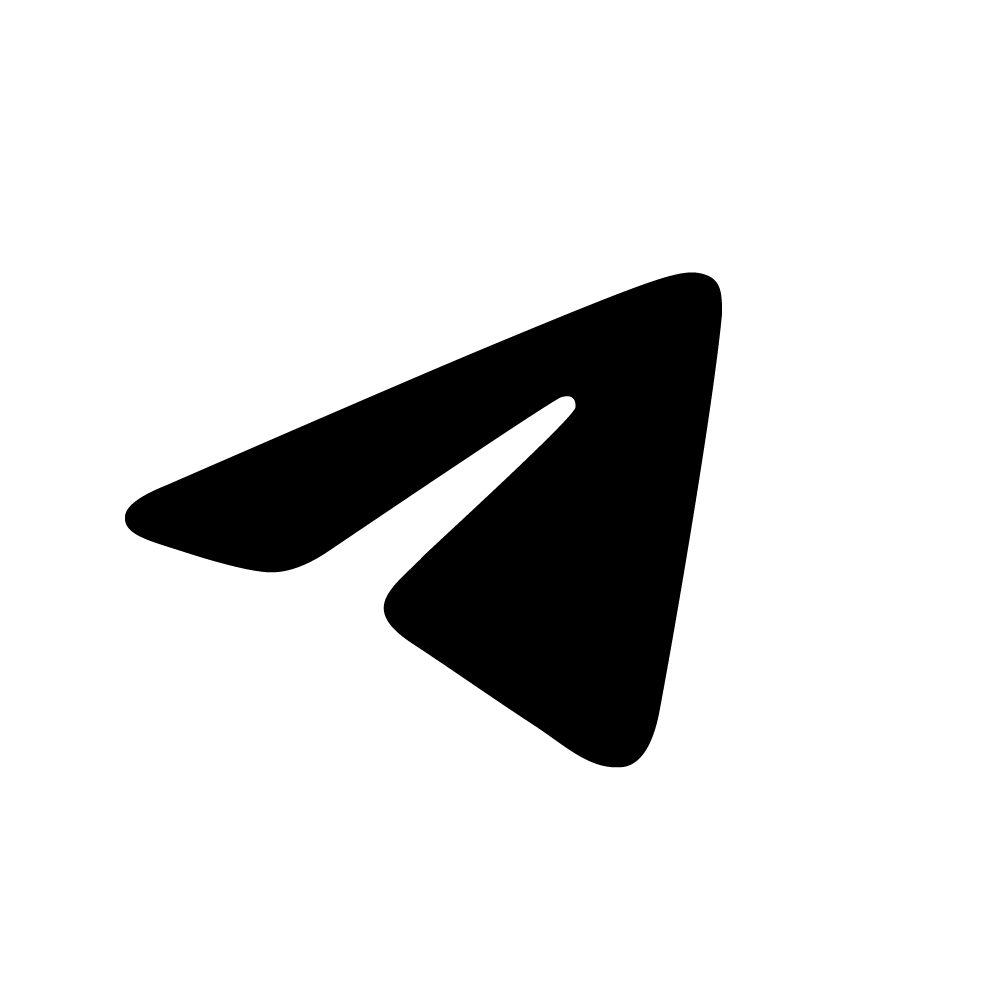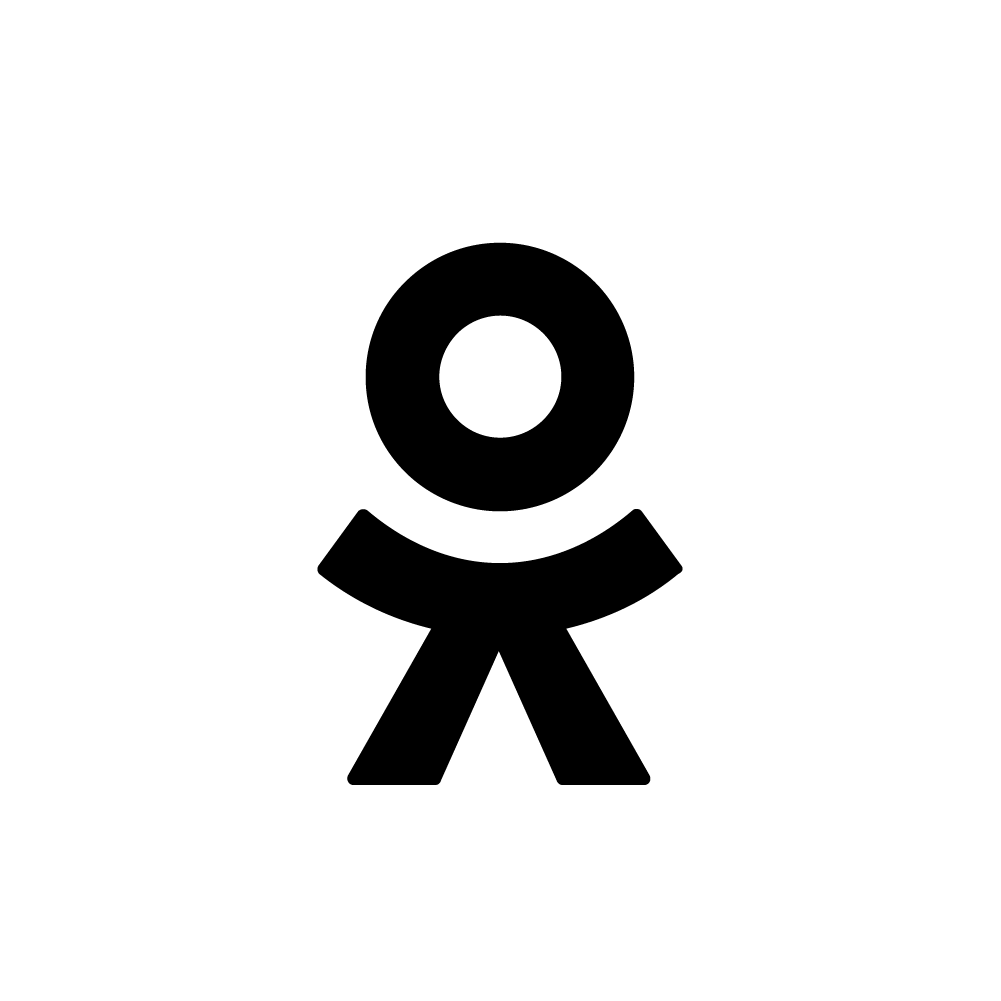Статья посвящается моему отцу — Игорю Васильевичу Юрченко (1914–1981). Полковнику, кавалеристу, разведчику, писателю, переводчику с китайского языка и, конечно же, заядлому охотнику. Награжденному: двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Ленина, медалью «За победу над Германией» и медалью «За победу над Японией».
Во время войны…
С осени 1940 до конца 1943 года отец работал в Китае, рядом с Мао Цзэдуном и его соратниками. При нем пришедший от Чан Кайши человек рассказал о готовящемся нападении гитлеровской Германии на СССР. Мао передал эту информацию русским «корреспондентам», а те в свою очередь передали ее в Москву. Это было за две недели до 22 июня 1941 года…
В то время группа отца получала вместо денег прутки серебра, которыми расплачивались, отламывая кусок нужной длины. Даже несмотря на свое положение, достать свежее мясо в те годы было практически невозможно — и офицеры охотились! В основном добычей становился фазан, кормящийся в посадках чумизы и овощей, но случалось добывать волков и ворон (которых также съедали). Охранники Мао Цзэдуна после таких охот выражали недовольство со стороны своего начальника, но делали это больше для порядка, так как все мясо съедалось ими же с большим удовольствием, а часть добытых фазанов передавали жене Цзэдуна — Цзян Цин, у которой были проблемы с желудком.
Жизнь возвращается в мирное русло
Отец вернулся в Москву в апреле 1945 года с простреленной ногой. Здесь уже был пенициллин, и ногу удалось спасти. С собой у него был чемодан с какими-то коричневыми брусками, и на мой вопрос: «Что это?» — он ответил: «Гуталин!». Позже гуталин оказался шоколадом и был быстро съеден мальчишками нашего двора. Конечно же, я не смог сразу его отличить, ведь наша семья недавно вернулась из эвакуации и мне довелось увидеть шоколад первый раз в жизни. Как написали бы раньше, «жизнь возвращалась в мирное русло». И для многих фронтовиков охота стала отдушиной, своеобразным местом встреч для разговоров среди «своих».
Когда в 1947 году мне исполнилось шесть лет, отец впервые взял меня с собой на вальдшнепиную тягу. Охотились в перелесках, недалеко от деревни Крюково Зеленоградского района Московской области. Собаки у нас не было, и после каждого удачного выстрела отец давал мне команду: «Ищи!». Стрелял он без промахов, как и все его друзья по Военно-охотничьему обществу: сначала Генштаба, а потом Военной академии им. М. В. Фрунзе, куда отец перешел на преподавательскую работу. Я плакал от бессилия, поскольку почти ничего не мог найти, но упорно продолжал лазить по зарослям и искать очередного вальдшнепа…
Охота в послевоенные годы
Место, куда ехать на охоту, выбиралось не так, как сейчас. Мало кто уже помнит, что в послевоенные годы долгое время существовал лишь один выходной день в неделю — воскресенье, и были праздничные («красные») дни календаря. Только когда они совпадали, получалось два-три нерабочих дня, позволявших выбраться на полноценную охоту, но чаще всего приходилось довольствоваться однодневными поездками недалеко от Москвы.
На один день выезжали обычно в Завидово, в хозяйство Военно-охотничьего общества Московского военного округа (МВО), а на пару дней выбирались в «Скнятинское» охотхозяйство МВО.
В те годы руководил «Завидовским» охотхозяйством испанец Болтас, бывший начальник службы безопасности ЦК Коммунистической партии Испании. В 1939 году он вывел всех членов ЦК через Пиренеи во Францию, откуда их забрали в СССР. За что Франсиско Франко (правитель Испании) заочно приговорил его к расстрелу. Болтас пользовался всеобщим уважением и имел неоспоримый авторитет. Память, к сожалению, хранит лишь обрывки рассказанных историй, а сколько их ушло в небытие вместе с этими людьми?!
Кремлевская школа курсантов, 1933 год. Отец- третий слева в среднем ряду
Завидово
Однодневные охоты планировали так, чтобы поехать в ночь на воскресенье, утром поохотиться, а поздно ночью вернуться в Москву, дабы в понедельник уже пойти на работу. В основном это были загонные охоты в дружном коллективе офицеров-фронтовиков.
Охота в те времена проходила совсем иначе. Молодому поколению, наверное, уже трудно представить, но снегоходов не было, и для того, чтобы найти зверя, приходилось часами бороздить лесные угодья, разделенные просеками на квадраты со стороной в два километра. Проходили первую просеку, и если выходных следов не было, то шли дальше, обходили весь квадрат, а если находили выходные следы, то шли на обход следующего квадрата.
Меня никогда не брали в загон, оставляли собирать дрова, жечь костер и ждать охотников. А вот старший приятель, у которого в 14 лет был уже охотничий билет, стоял на номере со своим отцом; и однажды, когда на отца попер раненый кабан, друг не растерялся и добрал подранка, а главное, спас жизнь отцу.
Охотничий билет 1949 года
Девять лосей
Еще один случай на охоте запомнился мне особенно ярко. Понятное дело, что раций тогда не было, поэтому договаривались так. Если выстрел был «убойный», и охотники видели, что зверь упал, то кричали: «Готов!». Стрелки стояли в прогалах, на расстоянии двух выстрелов из гладкого ружья. В тот раз егерь Сергей, взяв в загон только собак, грамотно выгнал стадо лосей, которые пошли вдоль стрелковой линии, на предельной дистанции для выстрела, мелькая среди деревьев. Количество добытых лосей подсчитали только тогда, когда друг за другом выстрелили все участники загона. Ни один не промахнулся. Девять лосей (на две лицензии) нашли свои пули. Историю эту долго пришлось «утрясать», объясняя, что и как произошло.
На самом деле офицеры почти никогда не браконьерили. Подранков тоже не было, били зверя уверенно! Про таких охотников в ходу был термин — «тяжелая рука».
Волки
Когда охота проходила удачно, добычу в лесу никогда не разделывали. Темнело рано, а с окружавших хозяйство торфяных болот и непроходимых чащоб приходили волки… много волков. Специально на них в то время не охотились, но историй про нападения на охотничьих собак хватало. На меня все эти истории произвели такое впечатление, что я даже боялся ходить в чулан, где стояло огромное чучело волка со светящимися глазами. Тушу добытого зверя грузили на волокушу и тащили до базы, где делили, как и сейчас, на равные части, затем один из охотников поворачивался спиной ко всем остальным и выкрикивал имена.
Скнятино
Когда все-таки выпадала возможность выехать на несколько дней, то ехали в «Скнятинское» охотхозяйство МВО, так как путь был неблизкий. Организация охоты проходила следующим образом. Собирались на Ленинградском шоссе, куда подгоняли грузовой Studebaker (с брезентовым верхом), в который все загружались. Ехали без остановок до «шалмана» — питейного заведения на полпути до Скнятино, где взрослые выпивали по стакану водки, а мне по малолетству полагался стакан портвейна.
Дорога до Скнятино от шоссе, ведущего на Углич, и сейчас с колдобинами в асфальте, а в те годы это был просто проселок. Отец рассказывал историю, как один генерал, большой любитель охоты, ездил сюда очень хитроумным способом. На Савеловском железнодорожном вокзале в Москве на платформу грузился генеральский «Виллис», а сам он со свитой ехал в теплушке. На станции Скнятино машину закатывали на волокушу с впряженной лошадью, генерал садился в «Виллис» и ехал два километра до базы в собственном автомобиле. Остатки этих волокуш до сих пор можно увидеть на территории скнятинской охотбазы.
Охотничий быт
По приезде в Скнятино все располагались в обычном деревенском доме с армейскими кроватями, где спали вповалку, даже генералы. На досуге офицеры-охотники любили рассказывать им анекдоты про… генералов. Смеялись все. Чинопочитания на охоте не было — все были равны. Еду брали с собой из дома, и все шло на общий стол. Никаких разносолов, а сытная и простая пища.
Проблем с продуктами в послевоенные годы у офицеров-фронтовиков не было. На отцовскую зарплату, а потом и военную пенсию, жила вся семья из пяти человек. Год на фронте засчитывался за три, и мой отец, принявший присягу в октябре 1930-го в школе кремлевских курсантов РККА им. ВЦИК в возрасте 15 лет, был уволен в запас в 42 года, в 1956-м, по сокращению штатов и выслуге лет равной 33 годам.
За зайцами
Частенько здесь охотились на зайцев-русаков, которых было много в этих местах. За день добывали не больше одного-двух, так как затевалось все не только ради добычи, а больше ради «тропления» следов ушастых на снегу. Это было увлекательнейшее занятие. В Скнятино на охотничьей базе жили крупные гончаки, в основном привезенные в качестве трофеев из Германии, с которыми зайцев и гоняли. Однажды гончак стащил кусок соленого тюленьего мяса, отпрыгнул в сторону и сожрал его. Потом сидел у лужи, не переставая лакал воду и долго лаял, обиженный на весь свет.
Один раз в компании решили «прогнуться» и выгнали зайцев на генерала, по которым тот промахнулся… Вернулись на базу в Скнятино и на вопрос егеря: «Как поохотились?» — пришлось сознаться. «Будете знать, как с дураками связываться», — был ответ. Егерь Сергей был фронтовиком и единственным, кто имел шомпольное ружье. Если охотники из загона возвращались без добычи, то он шел один и пустым никогда не возвращался.
Merkel 1949 года выпуска
О ружьях
После охоты был смотр оружия. Все доставали ружья из чехлов и хвастались. В те годы офицеры-фронтовики охотились как с трофейными ружьями, привезенными из Германии, так и с покупными. Особенно в этих кругах ценились «Sauer три кольца». С 1949 года в продаже появились новенькие Merkel. Оружейный завод этой марки достался ГДР, и качество первых послевоенных «меркелей» было отменное. На стволах стояло клеймо KRUPP, это были еще довоенные запасы, и отец как раз купил такое весной 1950-го. Это ружье до сих пор в нашей семье, с ним охотится уже четвертое поколение. Второе ружье отца было из комиссионки, французское, к сожалению, оно не сохранилось. Я с этим ружьем охотился последний раз в 1972 году в Карелии на глухаря, рябчиков и уток.
Маршал
Как правило, маршалы не ездили в Завидово. Но история хранит рассказ одного местного жителя из соседней со Скнятино деревни о том, как он, будучи мальчонкой, в еще достаточно голодные в деревнях годы середины 50-х, пошел в лес за грибами. Смотрит — на поляне костер, вокруг него военные, один из них в папахе, самый главный. Тот подозвал, расспросил, что да как, сколько детей в семье, есть ли корова или лошадь. А потом спросил: «Знаешь, как меня зовут?» Получив отрицательный ответ, сказал: «Маршал Малиновский. Вываливай свои грибы!» — и накидал полную корзину с верхом уток…
Дорогие сердцу и памяти вещи
Утиная охота
Утиная охота в Скнятино выглядела весьма оригинально. Скрадки расставляли на берегу или охотились с весельной лодки. Каждый охотник имел при себе самодельный спиннинг из можжевелового хлыста, на котором стояла катушка, которую можно было сделать недалеко от Ростовских переулков на Плющихе. Собак, подающих уток с воды, у охотников не было, и подбитую птицу доставали метким забросом «спиннинга». Добывали по семь, десять, а иногда пятнадцать уток за выезд. В основном это были кряквы, чирки и свиязи. Утиный пух не пропадал: из него делали детям подушки.
Встреча в Скнятино
Однажды на скнятинской базе отец встретился со своим старым знакомым, маршалом Чуйковым. Оба выпускники разных лет восточного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе, они познакомились еще до войны, осенью 1940 года, в одном из ресторанов Москвы, перед поездкой в Китай. Чуйков был назначен на должность военного атташе и главного военного советника Чан Кайши, а отец ехал, по линии Коминтерна, с группой товарищей в особый район Китая к Мао Цзэдуну. Им было о чем поговорить, а по биографии каждого из них сегодня можно было бы снять многосерийный фильм про разведчиков.
Заключение
Сейчас имена многих людей, с кем мне приходилось встречаться на охотах, будучи совсем мальчишкой или подростком, стали частью истории нашей страны. В послевоенные годы в коллективе охотников-фронтовиков это были просто интересные люди, которые любили рассказывать разные истории у костра в лесу. Я сейчас сделал то же самое для вас, дорогие читатели, чтобы эти маленькие картинки из послевоенных охот расширили ваш мир!